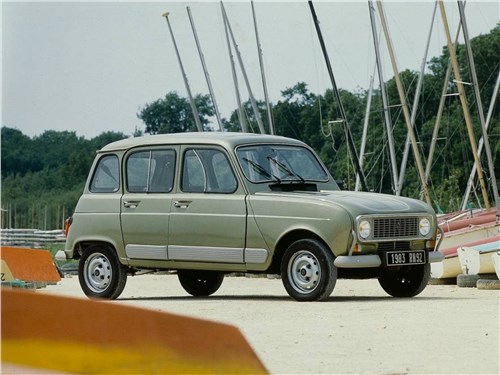Так уж сложилось, что во всем мы виним чиновников: кто загубил передовую идею — чиновники, кто не дал осуществить передовой проект — они же. Но насколько это верно? Попробуем разобраться на примере уникального микроавтобуса «Старт», который был создан в середине 1960 х в Донецке
О микроавтобусе «Старт» в шестидесятых годах много говорили, показали на всю страну в информационной программе «Время», после фотосессии на Красной площади центральная пресса писала о «чудо-автомобиле», его экспонировали на ВДНХ, снимали в кино. Помните последние кадры кинофильма «Кавказская пленница» — машину, увозящую героиню Варлей в светлую даль? Это и был «Старт», не запомнить его невозможно.
История уникального автомобиля началась в 1963 году в городе Донецке. Во время хрущевской оттепели жизнь менялась, стали появляться личные легковые автомобили, входил в моду автотуризм. И у начальника Главного автотранспортного управления Луганского совнархоза А.С. Антонова возникла идея создания «автодома на колесах». Они в это время были очень популярны за рубежом. Разработку и производство прицепа поручили Северодонецкой авторемонтной базе (САБР), на ней спроектировали и наладили выпуск прицепов, кузов которых был изготовлен из пластика. Но Антонову этого показалось мало, и он решил на САБР наладить производство машин. Еще пять лет назад такая идея казалась невозможной: начать разработку транспортного средства без приказа Народного комиссариата автомобильной промышленности СССР, без выделения средств на конструкторские работы, макетирования, испытаний… При плановом хозяйстве определялись параметры необходимой машины, потом задание спускалось в КБ, где и велась разработка. Но времена кардинально изменились, жесткая плановая экономика времен войны начала потихоньку отступать, появилось больше свободы во всех областях, и многое из того, что раньше казалось невозможным, стало реальностью. По распоряжению Антонова главный инженер Северодонецкого авторемонтного треста А. Иванов вместе с директором А. Головатиным приняли решение разработать автомобиль собственной конструкции.
Но тут же встал вопрос — какую машину строить? Ответ пришлось искать Геннадию Дьяченко, он был назначен главным конструктором проекта, который назвали «Старт». Ему помогали выпускники Харьковского автодорожного института Я. Балясный, Б. Крутенко, А. Калмыкова, за внешний вид машины отвечал художник Ю. Андрос. Участники проекта были молоды, им повезло самим определить, какую машину построить. Конечно, хотелось сделать что-то необычное, не похожее на все, что уже было. А какие веяния в то время формировали автомобильную моду?
Первая тенденция — отказ от металла, его заменяли на пластик (вспомните, например, гэдээровский Trabant, который начали выпускать в 1957 году). В США в 1953 м появился Corvette, кузов которого изготавливался из пластика. В ФРГ построили прототип K67, созданный совместно концерном BMW и химическим гигантом Bayer. В 1961 году студенты Харьковского автодорожного института разработали экспериментальный автомобиль с кузовом из пластика ХАДИ 1. Его вес не превышал полтонны, это первый советский автомобиль с кузовом из полимера. Теоретически такие кузова были легче и не подвергались коррозии, что очень важно.
Вторая тенденция — разработка новых типов кузовов. Седаны, кабриолеты и универсалы уже немного приелись, хотелось чего-то из будущего. В то время казалась перспективной идея с «вагонной» компоновкой кузова, ярким примером которого является авангардный проект НАМИ 013, созданный художниками Шишкиным, Арямовым и Долматовским. Кстати, такая машина могла выпускаться под названием ГАЗ-12 вместо всем известного ЗИМа. Но этого не случилось, дизайн и конструкция представлялись слишком авангардными. В Ирбите на мотоциклетном заводе по инициативе Долматовского была построена «Белка», которая проектировалась энтузиастами как «народный автомобиль». Дешевый, с простой конструкцией, он был тоже с «вагонной» компоновкой кузова. Мы перечислили разработки с таким типом кузова, созданные в СССР, но и в других странах их встречалось немало.
Этот вид компоновки считался перспективным по нескольким причинам. В таких машинах мотор устанавливался сзади, что обеспечивало хорошую нагрузку на заднюю ось, отсутствие кардана упрощало конструкцию и уменьшало вес, задняя подвеска могла быть только независимой, что тоже улучшало плавность хода и управляемость. Передние сиденья сдвигались максимально вперед, следовательно, площадь салона увеличивалась: при тех же габаритах увеличивалось и количество посадочных мест, уравновешивалась нагрузка на оси. Машина становилась более сбалансированной, появлялось что-то близкое к идеалу — половина веса на переднюю, вторая половина на заднюю подвеску. Также теоретически снижалась общая масса автомобиля, а значит, улучшалась динамика и снижался расход топлива.
Ну и третья тенденция 1960 х — космический дизайн. Вспомните большое число как отечественных, так и зарубежных машин с «плавниками» в задней части кузова. Кстати, даже название уже упоминавшийся машины, сделанной в ГДР, Trabant, переводится как «Спутник».
Итак, инженеры, которых ничто не ограничивало, выбрали все новые и перспективные тренды того времени. Было решено сделать многоместный легковой автомобиль на 10–12 мест (тогда слова «микроавтобус» еще не было) с кузовом из пластика, с нотками космического дизайна. На Донбассе тогда развивалось производство эпоксидной смолы, из которой и выполнили детали кузова. Оборудование позволяло собрать ходовую часть микроавтобуса и изготовить кузов.
За разработку экстерьера микроавтобуса отвечал художник-архитектор Ю. Андрос. Дизайн получился максимально броским, футуристичным, ярким, запоминающимся, ничего подобного до тех пор у нас в стране не появлялось. Что касается агрегатов, на которых можно было построить концепт, то выбор практически отсутствовал. Двигатели от грузового ГАЗ-51 или ЗИЛ-164 были слишком крупными, прожорливыми и тяжелыми, моторам от «Москвича» не хватало мощности, поэтому выбрали агрегаты ГАЗ-21 «Волга».
Изначально макет изготовили в масштабе 1:10, дизайн создал конструктор-художник Ю. Андрос. После того как руководство обкома партии одобрило дизайн «Старта» начали изготовление полномасштабного гипсового макета. Его использовали как шаблон для создания «форм», по внутренней поверхности которых вручную выклеивали панели кузова из стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой. Формы для производства дверей, капота, крышки багажника, днища и сидений сделали отдельно. Для увеличения жесткости деталей из пластика в них вклеивались деревянные элементы. Поскольку кузов не мог быть несущим, его монтировали на раму, на первых моделях поперечины сделали лонжеронные, далее трубчатого типа.
К раме крепились двигатель ГАЗ-21 с подрамником, коробка передач, передний независимый и задний зависимый мосты на полуэллиптических рессорах, взятых тоже от «Волги». От «21 й» было взято и много других деталей. Кроме уже перечисленных, это, например, электрооборудование, топливная система, оптика, передние фары, задние фонари, элементы салона, щиток приборов, рулевой механизм, тормозная система. Стекла позаимствовали у УАЗ-452, лобовое и заднее выполнили идентичными. При компоновке автомобиля были приняты спорные решения. Одно из них — смещение двигателя от передней оси в салон. Это пришлось сделать по причине того, что вес двигателя и кузова, плюс 10 пассажиров значительно превышал вес «Волги». Передний мост не был рассчитан на такую нагрузку. Чтобы ее уменьшить, мотор разместили в салоне.
Во-вторых, то ли в угоду дизайну, то ли для повышения жесткости корпуса сзади сделали багажник, как у легкового автомобиля. С точки зрения дизайна это делало машину легко узнаваемой, но ухудшало ее эксплуатационные качества, так как при такой конструкции нельзя было сделать заднюю дверь. В салоне размещались 9 пассажиров и водитель. Сзади было трехместное сиденье, все остальные — одноместные. За водительским креслом располагался двигатель, крышка которого использовалась как столик. Увы, такая компоновка мешала входу и выходу.
Справа спереди поместили единственную дверь для пассажиров. Рабочее место водителя продумали неудачно: сиденье, прикрепленное к кузову, никак не регулировалось, колени упирались в панель приборов. Рулевое колесо было без усилителя, так же, как и тормоза. В итоге получилась заднеприводная машина, с колесной формулой 4х2, с двигателем от ГАЗ-21 рабочим объемом 2,4 л, мощностью 75 л. с., разгон до сотни занимал около минуты, длина составляла 5500 мм, ширина — 1900, высота — 2000 мм, вес — 1,7 т.
Первый микроавтобус «Старт» цвета слоновой кости с вишневой полосой собрали в 1963 году. Он представлял собой туристический вариант: в салоне располагались три сиденья-дивана, в конце размещались шкафчики для посуды, капот двигателя использовался в качестве столика, а в багажнике были смонтированы походный умывальник и холодильник, работающий на сухом льду. Сразу после постройки первого образца микроавтобус выехал в Москву и преодолел больше 1000 км своим ходом.
Внешний вид прототипа произвел сильное впечатление на первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. На проект сразу выделили 50 комплектов волговских агрегатов, и началось мелкосерийное производство. Все процессы были полностью ручными и небыстрыми. Эпоксидная смола сохнет не менее суток, и только после этого каждую деталь, изъяв из формы, требовалось обрезать, подогнать к другой, а после сборки кузова целиком его отшлифовать, зашпаклевать, загрунтовать, покрасить — все это очень долгий и трудоемкий процесс.
В 1963 году два образца с номерам шасси 27 и 37 отправили в НАМИ для прохождения ходовых испытаний. Они стали практически первыми машинами, проходившими испытания на только что построенном Дмитровском автополигоне. Донецкие микроавтобусы испытания провалили, поскольку инженеры из авторемонтных мастерских не имели должного опыта конструирования. Машина, построенная из легкого пластика, оказалась тяжелее цельнометаллического РАФ-977 с несущим кузовом. Также кузов «Старта» уступал в долговечности конкурентам, после 25 тыс. км пробега трескался, терял геометрию, двери переставали нормально закрываться, быстро выходил из строя передний мост.
Кроме того, большое количество ручного труда при производстве исключало массовый выпуск автомобиля и делало его очень дорогим. Необычный экстерьер, который привлекал внимание, был плохо продуман с точки зрения аэродинамики, создавая большее сопротивление воздуху, чем тот же РАФ или УАЗ. При такой непродуманной аэродинамике расход топлива, динамика и максимальная скорость уступали показателям конкурентов. Ну и, конечно, багажник в задней части ограничивал применение «Старта» в народном хозяйстве, машина не могла использоваться как скорая помощь или фургон для доставки грузов. При этом рабочее место водителя не отвечало ГОСТу, эксплуатировать такой автомобиль посчитали опасным. Поскольку пассажирские сиденья сделали абсолютно плоскими, при повороте удержаться на них было совсем непросто. Разработчики взяли все самые перспективные решения, что существовали на тот момент, однако им, к сожалению, не хватило опыта.
Впрочем, несмотря на заключение НАМИ, «Старт» продолжали выпускать и собирали вплоть до 1970 года. Всего произвели около 150 экземпляров на разных предприятиях области и на разных агрегатных базах, на некоторых образцах применяли детали ЗИМа. Эта история не является типичной: начало проекта было инициировано региональными чиновниками, его поддержало высшее руководство страны, но он так и не состоялся. Так что не всегда чиновники во всем виноваты. А что касается людей, работавших над «Стартом», то они — молодцы! Да, им не удалось сделать серийный образец, но они создали одну из самых необычных машин, которая привлекает внимание и сегодня, являясь частью нашей истории.